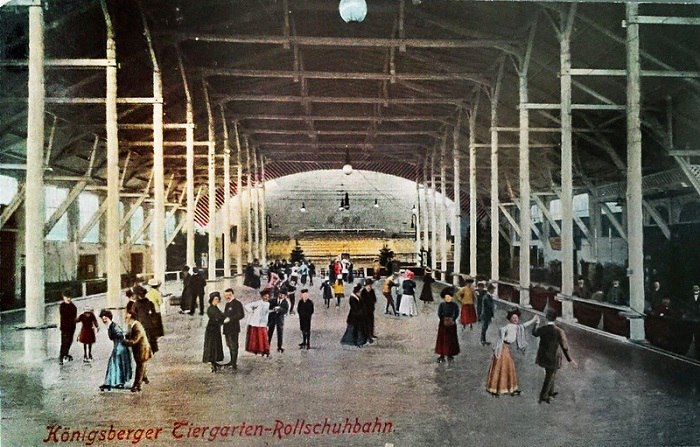Для большинства русских путешественников, выезжавших за пределы страны по железной дороге, знакомство с заграницей начиналось с Восточной Пруссии. Первые впечатления от увиденного из окна вагона курьерского поезда, зачастую оказывавшиеся самыми яркими и интересными, нашли отражение в многочисленных дневниках и воспоминаниях наших соотечественников, среди которых было немало государственных деятелей, дипломатов, учёных, писателей и революционеров.
В 1846 году началось строительство прусской Восточной железной дороги. Прокладка главного пути от Берлина до Кёнигсберга была завершена в 1853 году. Дорога от Берлина до Кёнигсберга занимала всего 13 часов. А дальше счет дороги по России шёл на дни и недели. Поэт Некрасов, возвращаясь из почти годового путешествия по Европе в июне 1857 года, написал И.Тургеневу, что ему повезло: «Ехал я из Кёнигсберга дней восемь — оттого не очень устал».
В 1857 году Россия заключила с Пруссией «Конвенцию о соединении Петербургско-Варшавской железной дороги с Берлинско-Кёнигсбергской». При этом оба правительства брали на себя обязательства проложить железнодорожный путь до точки соединения в Эйдткунене, а окончание строительства и начало движения, которое планировалось на 1860 год, должно было «последовать на обоих участках одновременно». Пруссия свои обязательства выполнила первой: сообщение между Кёнигсбергом и Эйдткуненом (совр. Чернышевское) открылось 4 июня 1860 года. Строительство российской ветки проходило медленнее: дорога от Ковно (Каунаса) до Вержболово (лит. Вирбалис, нем. Вирбаллен) была введена в эксплуатацию в апреле 1861 года. Но и после этого оставался недостроенным еще один самый трудный участок пути.
Наконец, с сооружением в 1862 году двух тоннелей под Вильно (430 м) и Ковно (1280 м) строительство железной дороги завершилось. Отныне из Петербурга можно было на курьерском поезде прямиком доехать до Парижа — этот маршрут писатель Н.Лесков окрестил «столбовой русской дорогой». Единственное неудобство состояло в необходимости пересаживаться на другой поезд, так как более широкая русская колея не соответствовала принятому в Европе стандарту. По этой надобности прусская колея была проложена до Вержболово, а русская доходила до вокзала в Эйдткунене, кроме того, между ними курсировал «передаточный пограничный поезд». Позднее русские вагоны стали переставляться на узкую немецкую колею прямо в Вержболово с заменой осей.
Историк В.Модестов в своих мемуарах описал, какое действие произвело на русское общество открытие весной 1862 года железной дороги до прусской границы: «Массы русских людей всякого рода и звания хлынули в Западную Европу. Ехали старые и молодые». Вслед за открытием дороги произошла либерализация выездного режима. Ещё в 1860 году Н.Добролюбов возмущался чудовищной волокитой с выдачей паспорта: «Свиньи, таскали меня целый месяц, насилу выпустили». Но затем, по свидетельству писателя П.Боборыкина, подданным царя вышло послабление: «За границу кинулись к 1860-м годам все, кто только мог. Рухнули николаевские порядки, когда паспорт стоил 500 рублей, да и с таким неслыханным побором вас могли — и очень! — не пустить. Теперь это сделалось банально».
Вслед за А.Герценом, который ещё в 1847 году сравнил пересечение границы Восточной Пруссии со сменой декорации в театре, разительные перемены за окном вагона отмечали почти все русские путешественники. М.Салтыков-Щедрин в цикле путевых очерков «За рубежом» о поездке 1880 года заметил, что вплоть до Вержболово «никому из нас не приходило в голову выглядывать в окна и любопытствовать, какой из них открывается пейзаж». «В Эйдткунене, — пишет автор, — картина изменилась, как бы волшебством. Все тотчас же бросились к окнам и начали смотреть». Ф.Шаляпин, отправившись первый раз за границу в 1897 году, писал с дороги: «Проехав границу, смеялся и почти плакал. Переменилось всё сразу — и культура, и природа».
Типичные впечатления об увиденном в Восточной Пруссии тех русских путешественников, которые жадно приникали к окнам вагонов, удалось в полной мере отразить географу и публицисту Н.Яковлевой в очерке «По Пруссии»:
«С переменой русских вагонов на немецкие в Эйдткунене переменяется и характер путешествия: поезд тотчас пошёл гораздо скорее, и чем дальше, тем всё усиливал стремительность своего бега. Смотря направо и налево, я замечаю, что немцы недаром пользуются репутацией солидных людей: всё у них массивно, капитально, на крепком фундаменте, всё рассчитано если не на вечность, то по крайней мере на прочную долговечность. Станции большие и маленькие — все до одной каменные, с цинковыми крышами, с металлическими колпаками над трубами; в садиках дубовые скамьи, вокруг — чугунные решётки. Мы едем точно садом: все размерено, рассчитано и отлично возделано. Пашня как будто просеяна сквозь решето; фруктовые деревья с подпорками; везде протянуты на полях проволоки; в лесах, похожих на парки, проведены дорожки, поставлены скамейки.
Дома, расположенные небольшими группами, отделены один от другого живою изгородью, под тенью какого-нибудь столетнего дуба или клёна, который передается из рода в род как фамильная драгоценность. Дома попадаются часто двухэтажные, в три-четыре окна, не больше, но все непременно крыты черепицей, все непременно в цветах и с большими кисейными занавесками над крошечным балкончиком, похожим на скворечник. В постройках преобладает красный цвет: красные черепичные крыши, красные кирпичные стены. Это оживляет пейзаж: домики как будто цветут среди густой зелени садов.
Поезд несётся, и. перед окнами вагонов непрерывной вереницей тянутся местечки, селения, замки, города. Но и города у них не такие, как наши: у нас прежде всего показываются купола, кресты, колокольни; у них — фабричные трубы, нагроможденные уступами красные и серые стены, крутые черепичные крыши, да одна, много две кирхи на целый город поднимают к небу свои похожие на башенки колокольни».
Музыкальный критик М.Станиславский, посетивший Восточную Пруссию в 1912 году, заметил в очерке воспоминаний: «Первое, что бросается в глаза при переезде русско-германской границы, это невероятно увеличившееся благосостояние всей немецкой страны и её населения. Так, городское население поражает прямо своим необычайно сытым и довольным видом. Чернорабочие, подёнщики, уличные метельщики, грузчики, портовые рабочие, ломовые извозчики не представляют в этом отношении ни малейшего исключения, все выглядят здоровыми, опрятно одетыми и с охотой исполняющими свои обязанности людьми».
Драматург А.Островский как бы подытожил чувства, испытанные множеством его соотечественников, записав в путевом дневнике в 1862 году: «Поля возделаны превосходно, унавожены сплошь, деревни все каменные и выстроены чисто, на всём довольство. Боже мой! Когда-то мы этого дождемся!».
Специфическим был взгляд на пересечение русско-прусской границы у профессиональных революционеров, документы которых не всегда отличались исправностью. Один из организаторов контрабандной доставки нелегальной литературы А.Брейтфус вспоминал об этом времени: «Условия были крайне тяжелые. Бдительное око русских жандармов и пограничников было на высоте своего призвания. Так, перед Эйдткуненом уже в Шталопенене (Германия) и даже дальше можно было на станциях встретить развязных русских «шпиков», одетых по-дорожному и следящих за всеми русскими, отправляющимися на родину». У другого революционера, народовольца Н.Морозова, возвращение на родину в 1875 году вызвало тягостное чувство: «Странно было впечатление России после заграницы! Казалось, мы прибыли в военный лагерь. Везде мундиры со светлыми пуговицами. Вся платформа была оцеплена полицией».
Русские путешественники часто сравнивали прусскую и русскую железные дороги, увы, всегда в пользу первой. Миллионер В.Кокорев считал, что у немцев «дорога сделана для людей, а не для пустырей, как у нас», и поэтому она «есть истинное оживление для всей Восточной Пруссии». «Никакой тряски, ни малейшего дребезжания стекол, — писал Кокорев. — Рельсы в их стыках свинчены. Станции чисты, везде буфеты с отличными бутербродами. Езда гораздо скорее нашей, излишней траты времени на станции нет. Дорога так покойна, что никакого утомления не ощущается».
Ещё одно свидетельство композитора Чайковского о своей заграничной поездке в декабре 1892 года: «Ничего не может быть хуже, как мой переезд из Петербурга в Эйдткунен. Ехал я в самом пакостном вагоне. Неудобно, грязно, двери не запираются, звонок всё время звонит, и в довершение всего испортилась печь, и мы спали при 4 или даже 3 градусах температуры!!! Мыться тоже нельзя было, ибо трубы испортились и вода в них обратилась в лёд». И вот наконец граница: «В Эйдткунене пересел в превосходный теплый вагон. Остановился в превосходнейшей гостинице в Берлине».
Многие русские путешественники, глядя на мелькавшие за окном вагона картины ухоженных городов и сел, налаженного быта, здоровых и довольных жизнью обывателей, разумно устроенной жизни, как заметил М.Салтыков-Щедрин, не могли не испытывать чувство «какой-то непобедимой неловкости». И хотя великий сатирик оговаривался, что не считает «прусские порядки совершенными и прусского человека счастливейшим из смертных», всё-таки признавался, что если удел русского — неволя и бесправие, то немца — свобода и достоинство, при этом «на стороне Эйдткунена есть одно важное преимущество, а именно: общее признание, что человеку свойственно человеческое».