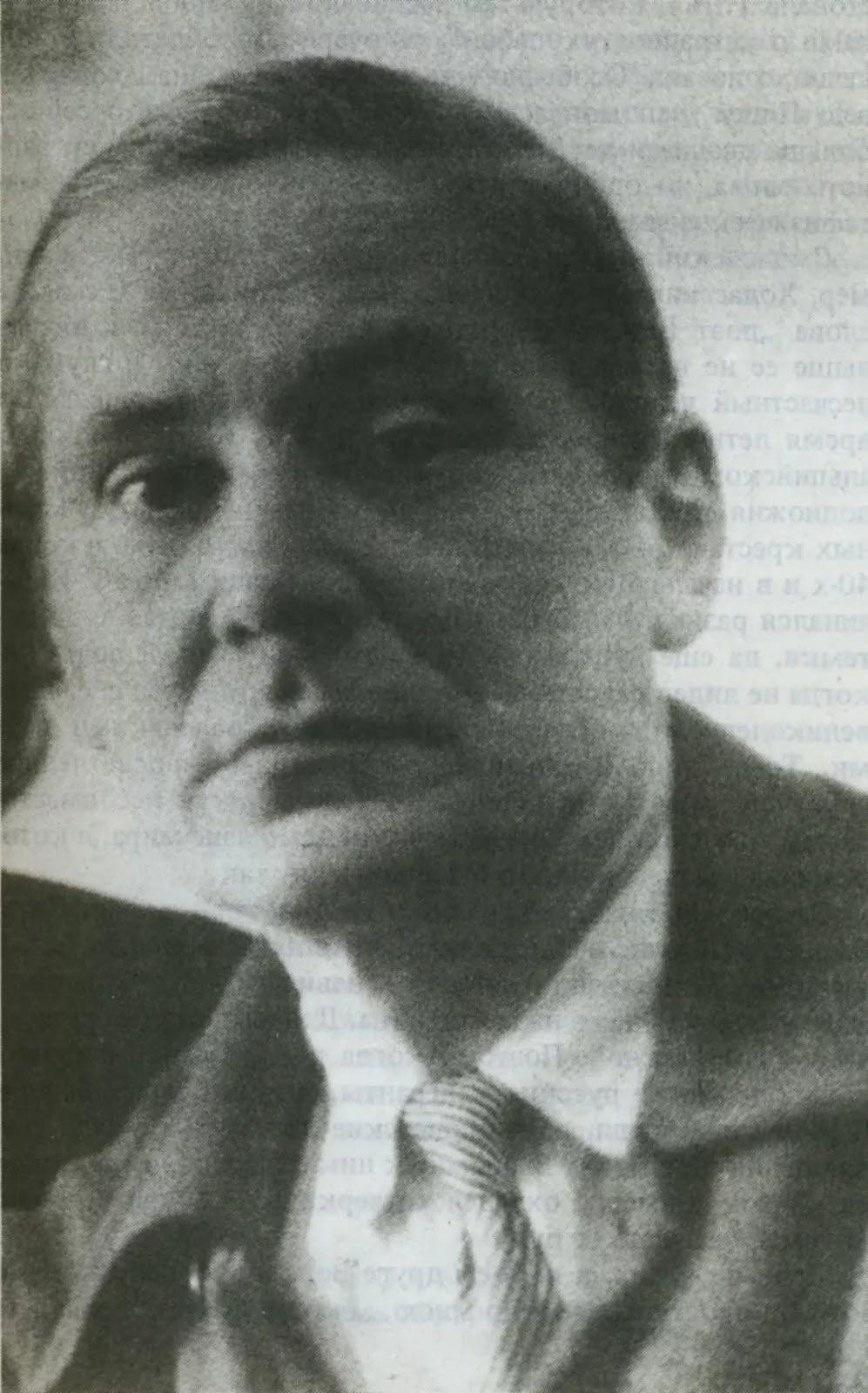«ОДИН ИЗ НЕЗАМЕЧЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ»
Поэты и писатели, родившиеся на рубеже ХIХ–ХХ веков, поколение русских мальчиков, чье детство и юность были оборваны революцией и Гражданской войной, недоучившиеся гимназисты, студенты, юнкера, пережившие гибель близких, испытавшие боль, голод, страх расстрела. Они только начинали жить, осознавать себя, искать свое место в жизни, как их мир внезапно рухнул, и они, лишенные всего, к чему привыкли и что считали незыблемым, надломленные, оказались выброшенными из России, отправившись в горький путь изгнания. Без опоры, без поддержки, без того культурного багажа, который был у литераторов старшего поколения, бесприютные и никому не нужные, они по-разному проходили этот путь. Позже Владимир Варшавский назовёт их «незамеченным поколением». Пройдя тяжелейший период выживания, который включал и галлиполийские лагеря, и Сорбонну, и французские заводы, поколение эмигрантских «сыновей» активно вошло в литературу, заставив говорить и спорить о себе. Они собирались в дешевых кафе и за чашечкой кофе или бокалом дешевого вина, до утра читали стихи. Их было много, талантливых и неустроенных.
«Помню Монпарнас, где мы, тогда изгнанные из России поэты, встречались, спасая себя от одиночества и пытаясь ещё стихами что–то спасти… Но порою накатывало отчаяние. И тогда ветер последнего времени лёгким ознобом охватывал сердца и души эмигрантов», – вспоминал много лет спустя поэт Владимир Смоленский.
Владимир Алексеевич Смоленский родился 24 июля (6 августа) 1901 года на Дону, в станице Луганской, в дворянской семье. Его детство прошло в имении отца потомственного донского казака, дослужившегося до полковника, после десятилетнего адъютантства в одесской жандармерии и ставшего начальником Луганского отделения Екатеринославского жандармского полицейского управления железных дорог.
Владимир начал писать стихи, когда ему было уже за двадцать. В эти свои двадцать с небольшим он увидел и пережил столько, что впечатлений хватило бы на несколько жизней.
Прямо во дворе их усадьбы был расстрелян красными горячо любимый отец. Мальчик, чудом избежавший той же участи, благодаря горничной, спрятавшей его, видел расстрел собственными глазами. Всю оставшуюся жизнь с непреходящей болью он вспоминал отца, который, хватаясь за землю, сопротивлялся палачам. У него в мертвой руке так и остался пук травы вместе с корнями. Лица убийц отца врезались восемнадцатилетнему Владимиру в память.
«Моему отцу»
Ты встаёшь из ледяной земли,
Ты почти не виден издали,
Ты ещё как сон — ни там, ни здесь,
Ты ещё не явь — не тот, не весь…
Стискиваю зубы. — Смерти нет.
Медленно сжимаю сердце. Свет
Каплями стекает с высоты.
Явственней видны твои черты,
Но слова твои едва слышны,
Но глаза твои ещё мутны,
Будто между нами пролегло
Дымом затемнённое стекло.
Смерти нет. Не может смерти быть.
Надо всё понять и всё забыть.
Страшное усилье. Страшный свет,
Слабый звон… — Ты видишь, смерти нет!
Из гимназии он ушел на войну, в Добровольческую армию. Осенью 1920 года в Крыму, во время отчаянной контратаки белых, вдруг узнал одного из тех, кто расстреливал его отца. Треск комиссарской кожанки, с размаху вспоротой штыковым ударом, слышался ему вновь и вновь много лет спустя, в Париже. Вместе с последними защитниками Крыма он покинул Россию навсегда.
Над Чёрным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.
Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.
Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом,
И Ангел плакал над мёртвым ангелом…
Мы уходили за море с Врангелем.
О двух годах, проведенных им в лагере в Тунисе, почти ничего не известно, кроме того, что именно там он начал писать стихи. Потом перебрался во Францию, где два года работал на металлургическом и автомобильных заводах. Денег на учебу в университете не было, гимназия не закончена, но тут Смоленскому повезло: ему выделил стипендию один из эмигрантских фондов, – это позволило, завершив курс в русской гимназии, поступить в коммерческую школу и стать бухгалтером на винной фабрике, которой владел один из поклонников его творчества. Вряд ли он был хорошим бухгалтером. Но нужно было кормить появившуюся к тому времени семью – жену и сына, названного в честь отца Алексеем.
Печататься Смоленский начал сравнительно поздно, в 28 лет, в Париже, в «Сборниках» Союза молодых поэтов и писателей, в газете «Возрождение», в «Казачьем альманахе» и альманахе «Круг», в журналах «Станица» и «Современные записки», в сборнике «Перекресток» и еще многих других изданиях.
Немало сил поэт отдавал и общественной жизни русской эмиграции: Союзу молодых поэтов и писателей, Союзу русских писателей и журналистов, объединению казаков–литераторов.
Русский литературный Париж заметил Смоленского сразу. От его стихов перехватывало горло. Он умел простыми словами говорить о самом главном: о смерти, об оставленной стране, о трагедии изгнания, о черной тени, нависшей над жизнью его поколения.
Очень тепло о встречах со Смоленским в середине 1920-х годов в своих мемуарах написала Зинаида Алексеевна Шаховская:
«На одном из балов я встретила молодого человека романтической внешности с черными глазами и тонкими чертами бледного лица. Один из нас, танцуя, начал читать на память стихотворение Александра Блока, а другой его закончил, и мы оба были восхищены тем, что среди обывателей встретились два поэта, взаимная симпатия перешла в дружескую влюбленность. Это был Владимир Смоленский, который позже стал самым любимым поэтом русской колонии в Париже. Я подарила Владимиру Смоленскому перстень, врученный мне, как талисман, другим поэтом с трагической судьбой, великой Мариной Цветаевой…». Позже Смоленский потерял это кольцо.
«Тончайшие, исполненные подлинного чувства, умно-сдержанные стихи Смоленского… очень … изящны – по нынешним временам даже на редкость. Вкус никогда (или почти никогда) не изменяет ему». (В. Ходасевич)
«Поэзия Смоленского глубоко современна, но вполне чужда поверхностного новаторства; непогрешимо изящная, проникнутая тонким, порой очень сложным и изысканным мастерством, она отличается той целомудренной сдержанностью, которая неразлучна с подлинностью чувства, с внутреннею правдивостью. В современной русской поэзии Смоленскому принадлежит одно из первых мест». (В. Ходасевич)
«…Стихи его обладают особым свойством «нравиться»: иногда видишь даже их слабости, замечаешь недостатки, — но стихи все-таки кажутся хорошими, удачными благодаря пронизывающей их музыкальной прелести» (Г. Адамович)
Владимир Смоленский был одним из лучших чтецов русского литературного Парижа. Ему завидовали. Добровольческому ореолу 18-летнего героя, его артистизму, тому, что он собирал полный зал Русской консерватории, замиравший при его чтении. Когда красивый, романтичный, с тонким бледным лицом и сияющими черными глазами, он выходил на эстраду и начинал читать свои обреченно-пьянящие стихи неповторимым баритональным тембром голоса, в зале падали в обморок не только экзальтированные барышни, но и вполне зрелые дамы. Он декламировал особой манерой – медленно, нараспев.
Закрой глаза, в виденье сонном
Восстанет твой погибший дом —
Четыре белые колонны
Над розами и над прудом.
И ласточек крыла косые
В небесный ударяют щит,
А за балконом вся Россия,
Как ямб торжественный, звучит.
Давно был этот дом построен,
Давно уже разрушен он,
Но, как всегда, высок и строен,
Отец выходит на балкон.
И зоркие глаза прищуря,
Без страха смотрит с высоты,
Как проступают там, в лазури,
Судьбы ужасные черты.
И чтоб ему прибавить силы,
И чтоб его поцеловать,
Из залы, или из могилы,
Выходит улыбаясь мать.
И вот стоят навеки вместе
Они среди своих полей,
И, как жених своей невесте,
Отец целует руку ей.
А рядом мальчик черноглазый
Прислушивается, к чему —
Не знает сам, и роза в вазе
Бессмертной кажется ему.
Смоленский часто читал стихи на заседаниях литературных обществ. Очень ценила его Зинаида Гиппиус и постоянно приглашала в свою литературную гостиную «Зеленая лампа».
Война застала Смоленского в Аррасе, где он работал на часовом заводе бухгалтером. Завод срочно перевели на производство стаканов для снарядов, город бомбили, шпиономания и паникерство зашкаливали. Однажды Смоленского заподозрили в том, что он немецкий парашютист и задержали. Толпа требовала его немедленной смерти. Но жандармы решили проверить, действительно ли он работает, как утверждает, на местном заводе, где делают снаряды против немцев. На месте все выяснилось, Смоленского отпустили.
С большими трудностями поэт уезжает из Арраса в Париж. Владимир Алексеевич, хоть и чувствовал большую ненависть к коммунизму, с немцами не сотрудничал. Живя практически в нищете, в пронацистских газетах печататься отказывался наотрез, хотя это ему не раз предлагали, помня о расстрелянном большевиками отце.
В послевоенные годы он продолжил участвовать в литературной жизни Парижа: печатался в журнале «Возрождение», в газете «Русское воскресенье», выступал на творческих вечерах, в 1947 году был одним из редакторов альманаха «Орион». В этом же альманахе был напечатан его перевод со старофранцузского поэмы «Любовь Тристана и Изольды».
В 1930-1950-е годы он занимался литературной критикой.
Владимир Алексеевич был сложным и глубоко несчастным человеком. Время летних отпусков, он, со своей второй женой Таисией Ивановной, проводил в альпийском городке Сервоз, в пятнадцати километрах от подножия Монблана. Смоленские нанимали комнату у местных крестьян. Это было в конце 1940-х и в начале 1950-х годов. Никто никогда не видел радости на его лице, разве что перед снежным великолепием Монблана или играющими маленькими детьми. Тогда лицо Владимира Алексеевича преображалось.
Какое там искусство может быть,
Когда так холодно и страшно жить.
Какие там стихи – к чему они,
Когда, как свечи, потухают дни,
Когда за окнами и в сердце тьма,
Когда ночами я схожу с ума
От этой непроглядной темноты,
От этой недоступной высоты.
Вот я встаю и подхожу к окну,
Смотрю на сад, на темную луну,
На звезды, стынущие в вышине,
На этот мир, уже ненужный мне.
Прислушиваюсь к шепоту часов,
Прислушиваюсь к шороху шагов.
Какое там бессмертие – пуста
Над миром ледяная высота.
Нина Берберова и Смоленский (Коша, как называли его друзья) были ровесники. Она вспоминала:
«…Он не жалел себя: пил много, беспрестанно курил, не спал ночей, ломал собственную жизнь и жизнь других… Он влюблялся, страдал, ревновал, грозил самоубийством, делая стихи из драм своей жизни…».
Разбрасывать и собирать слова,
Уже почти без смысла и значенья,
Уже без страсти и без вдохновенья,
Уже без боли и без торжества.
И почерком разборчивым вписать
В тетрадь еще пять-шесть коротких строчек,
И не забыть ни запятых, ни точек.
Перечитать и отложить тетрадь.
Изнемогая в медленной борьбе,
Где победить и незачем и нечем,
Всё больше горбить сгорбленные плечи,
Всё равнодушней думать о себе
И о других. Так, продолжая жить
Уже с полузакрытыми глазами,
Почти непогрешимыми словами
Научишься о жизни говорить.
****
Нам снятся сны, но мы не верим им,
Не понимаем знаменье Господне,
Вчерашний сон развеется, как дым,
Его не в силах вспомнить мы сегодня.
Вот так и жизнь земную — в смертный час
Мы, коченея на холодном ложе,
Смежая веки изумленных глаз, —
Ни вспомнить, ни понять не сможем.
Жизнь Владимира Смоленского оборвалась внезапно: у него обнаружили рак горла и после операции он лишился голоса, отвечал жестами или написанными на бумаге несколькими словами.
Из воспоминаний Н. Берберовой:
«Лицо у него было теперь чужое: красное, немного распухшее, с остановившимися глазами, и все время слышен был его хрип, когда он вдыхал и выдыхал. Но он все так же выглядел на десять лет моложе своих лет. В этой маленькой квартире они вдвоем жили в одной комнате, тут же ели, тут же спали, в другой комнате рядом жила мать его жены, а третья комната была складом ненужных вещей, свалкой старого мусора; ванная была грязна, и во всей квартире дурно пахло. В воздухе стояло тяжелое, неподвижное уныние».
Не стоило так долго жить,
Так много знать, так много видеть,
Чтоб виденное разлюбить,
Любимое возненавидеть.
Не стоило. — Не возражай,
Не спорь — ты знаешь цену слова;
Себя надеждой не смущай
И ложью не прельщай другого.
Средь тёмных душ, и слов, и числ
В небесное глядись сиянье
(Единственный быть может смысл!)
Земное дли существованье
Не для того, чтоб что-то вдруг
Понять или простить кому-то
(Всё прощено, мой нищий друг…)
Но дли, чтоб отдалить минуту
Прощания, вот с этим всем
Ничтожным и прекрасным миром,
Где в шуме умолкала лира,
Ненужная ему совсем.
И всё же, страдая от мучительной болезни, продолжал писать стихи, которые вошли уже в посмертный сборник, изданный в 1963 году усилиями его вдовы — Таисии Ивановны Павловой-Смоленской.
В ночь на 8 ноября 1961 года Владимир Алексеевич Смоленский умер. В комнате рядом с ним были жена Таисия Ивановна, ее младшая сестра с мужем и священник. Около кровати на стуле лежала открытая книга стихов Бунина
Владимир Алексеевич Смоленский был похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
В фонде библиотеки Дома русского зарубежья им. А. Солженицына хранится ценная коллекция сборников поэтов русского зарубежья, принадлежавшая Владимиру Смоленскому (дар Н.А. Струве), с их автографами, посвящёнными поэту. Со многими его связывала крепкая дружба, среди них — В.А. Мамченко, Н.С.Белавина, А.А.Горская, Е.Л.Таубер, Ю.П.Трубецкой, А.С.Гингер, Л.И.Кельберин, А.Я.Браславский и другие.
Я знаю, Россия погибла
И я вместе с нею погиб —
Из мрака, из злобы, из гибла
В последнюю гибель загиб.
Но верю, Россия осталась
В страданьи, в мечтах и в крови́,
Душа, ты сто крат умирала
И вновь воскресала в любви!
Я вижу, крылами блистая,
В мансарде парижской моей,
Сияя, проносится стая
Российских моих лебедей.
И верю, предвечное Слово,
Страдающий, изгнанный Спас
Любовно глядит и сурово
На руку, что пишет сейчас.
Недаром сквозь страхи земные,
В уже безысходной тоске,
Я сильную руку России
Держу в моей слабой руке.