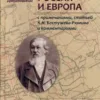А. Л. Дворкин
Образ Ивана Грозного в советской историографии
1922-1972
Исследование на нескольких конкретных примерах .
По сравнению с дореволюционной исторической наукой в советской историографии, связанной с трактовкой образа Ивана Грозного и интерпретацией его царствования, гораздо меньше творческой мысли. Как правило, все подчинялось “генеральной линии”, которая и направляла изыскания ученых. На сегодняшний момент можно выделить три главных периода, каждый из которых характеризовался весьма единомысленной оценкой исторической роли Грозного царя. Первый период продолжался приблизительно с середины 20-х до середины 30-х гг., а второй — с середины 30-х по 1956 г. Вместе с началом хрущевской “оттепели” начался и пересмотр значения царствования Ивана IV, который и ознаменовал переход к третьему периоду, продолжающемуся до сегодняшнего дня. Мы рассмотрим каждый из этих периодов в хронологической последовательности по нескольким наиболее характерным его представителям.
Но прежде необходимо обратиться к трудам Роберта Виппера, который стоит несколько особняком, так как его книга вышла в свет еще до начала первого периода и предшествует ему. В 1922 году эмигрант Виппер не был еще обязан следовать марксистской исторической схеме, следовательно, книга была искренним выражением его взглядов. Интересно скорее то, что после небольшой редакторской правки книга уже вернувшегося в СССР историка полностью и целиком вписалась в генеральную линию второго периода, о чем пойдет речь чуть позже.
Виппер изображает Ивана на общем фоне европейского и азиатского XVI в. Он был первым исследователем, попытавшимся связать внутреннюю политику Московского царства с ее внешнеполитической деятельностью. Это, несомненно, является верной интуицией, хотя нужно отметить, что трактовка Виппером политических тенденций XVI в. была, мягко говоря, фантастической, а те связи и сравнения, которые он проводит, — чрезвычайно искусственными. Книгу трудно назвать исследованием — это, скорее, страстный и пламенный панегирик. Автор исходит прежде всего из окружавшей его реальности — разрухи, анархии и хаоса, в которые была ввергнута страна ненавистной ему большевистской революцией. Виппер, по существу, оплакивает, как ему кажется, безвозвратно погибшую Российскую империю, направляя свою кипящую ненависть на либералов прошлого века, отвергших идею грозной власти. Виппер мечтает о твердой руке, способной остановить разрушителей империи и не допустить ее распада, и, похоже, душа его находит утешение, отвергая Москву начала 20-х гг. XX в. и переселяясь в Москву времени Ивана Грозного.
В своих ранних работах Виппер выступает исходя из последовательно материалистических позиций. История для него — не более чем игра слепых сил. Единственное, что может внести порядок в историю, — это мощь власти, побеждающей все. Свои взгляды Виппер излагает в работах о римской истории.
Виппер утверждает, что в документах XVI века наличествовали две традиции оценки Ивана Грозного. Положительная оценка отражена в работах Ермолая-Еразма и Ивана Пересветова, а негативная — во всем остальном, что писали об Иване его современники. Историк заявляет, что все негативные источники происходят из аристократических кругов, враждебных царю и, следовательно, пристрастных. Он пишет:
“Странным образом эта традиция, внушенная чувством мести со стороны романтиков, оплакивавших гибель аристократии, пережила великие достижения эпохи XVI в., заглушила суждения более прогрессивных современников Ивана IV и повлияла в сильнейшей степени на историков XIX в. Грозный царь закрепился в старых школьных изображениях как жестокий тиран по преимуществу; все его крупные деяния отошли на второй план; все его заслуги по расширению и внутренней организации Московской державы и борьбе с изменниками оказались забытыми”.
Позиция Виппера не выдерживает серьезной критики. Однако в данной работе мы не ставим себе задачу опровергать его. Можно лишь напомнить, что оба “позитивных” источника, которые он упоминает, на самом деле вообще не содержат оценки деятельности Ивана. Это предложения о реформах, написанные задолго до создания опричнины и до начала массовых казней.
Виппер увернет, что Иван вообще не был жестоким. Более того, он был слишком милосердным и гораздо больше, чем следовало бы, доверял своему окружению и своим советникам. К сожалению, он не был до конца последовательным в своей борьбе против реакции и оппозиции, которых он недооценивал.
Однако Виппер не наслаждается ужасами ивановых казней самих по себе. Ему достаточно найти оправдание для них. По его мнению, опричнина была необходима из-за крайне сложной военной ситуации в стране. Разорение Новгорода было совершено ради улучшения положения на фронте. Сама же опричнина является выражением демократических тенденций XVI в. Так, Земский Собор 1566 г. искусственно соединяется с созданием опричнины в 1565 г. Преображение опричнины в двор (1572 г.) трактуется Виппером как расширение системы, вызванное предательством новгородцев и разорительным набегом крымских татар. Он отказывается признать, что реформа 1572 г. была на самом деле уничтожением опричнины, в ходе которого многие ведущие опричники поплатились своими жизнями; что сожжение Москвы крымским ханом показало правительству всю ненадежность опричников и всю важность армии земщины. Причины катастрофического по своим последствиям для Руси завершения Ливонской войны столь же неочевидны для Виппера.
“Судьба Ивана IV — настоящая трагедия героического воителя, который проиграл по не зависящим от него обстоятельствам, причем бросил на весы счастья все свое достояние и вместе с потерей вновь приобретенной территории пошатнул основы только что построенной державы своей”.
Виппер не замечает, что написанное им является наиболее суровым осуждением, которое можно вынести политику, полководцу и правителю. В самых восторженных тонах он описывает мощь Московского царства, созданного Иваном III. Как же произошло, что гениальный Иван IV проиграл в азартные игры все полученное им наследство, что “один из лучших дипломатов на свете” закончил свои дни в международной политической изоляции, а “великий реформатор экономики” довел свой народ до страшного голода? Одно можно сказать определенно: Роберт Виппер не был гением в сфере логического мышления.
Мы еще вернемся к Випперу в связи со сталинистской историографией рассматриваемой нами темы. Пока же перейдем к первому периоду оценки Ивана Грозного в советское время.
М. Н. Покровский — официальный историограф революции — в своей “Русской истории с древнейших времен” развивает апологетический взгляд на Грозного. Покровского роднят с Виппером две общие черты — исторический материализм и антиморализм. Тем не менее первый оправдывает Ивана исходя из иных предпосылок, чем второй. Оправдание тиранов — вообще одна из любимых тем Покровского: убежденный революционер, он видит главным объектом своей ненависти аристократию в любом виде, так как ее власть по определению вредоносна. Под его пером Иван Грозный претворяется в лидера демократической революции, более удачливого предтечу императора Павла I, которого Покровский также изображает “демократом на троне”.
Однако правоверным историкам-марксистам первого государства рабочих и крестьян взгляды Покровского, несомненно, казались чрезмерно зараженными идеалистическим духом. Никакая личность не может играть сколько-нибудь значительную роль в истории — ведь история управляется классовой борьбой. Так учит марксизм, а ведь “Учение Маркса всесильно, потому что оно верно” (В. И. Ленин) — следовательно, по-другому быть не может. Бедолага Покровский не мог изжить в себе отрыжку идеализма и придавал слишком уж большое значение личностям, как будто бы они не подчинялись общим для всех законам исторического материализма…
Статья М. Нечкиной об Иване IV в “Первой советской энциклопедии” (1933) типична для подобного ортодоксального марксистского подхода. В трактовке тов. Нечкиной личность царя вообще не имеет никакого значения, хотя он и был “активнейшим участником… а на значительном участке времени и непосредственным руководителем политики ликвидации боярства” в ожесточенной борьбе между двумя кланами землевладельческого класса.
Согласно Нечкиной, “царствование Ивана IV падает на эпоху, характеризующуюся возникновением социально-хозяйственных отношений новой формы феодализма – крепостничества”. Она продолжает:
“Дворянско-буржуазная историография сплела идеалистические теории вокруг психопатологических черт Ивана IV; эти теории, объяснившие деятельность “тирана” его “безумием”, в корне ложны. Политика Ивана IV во всех ее особенностях имеет яркое классовое содержание, в котором целиком растворяются его психопатологические черты”.
Более того, “дворянская историография, стремившаяся объяснить политику Грозного качествами его характера, придавала решающее значение тем боярским притеснениям и оскорблениям, которые пришлось претерпеть Ивану-ребенку. Это объяснение, разумеется, не выдерживает критики; политика Грозного-царя руководствовалась отнюдь не детскими реминисценциями, а была обусловлена классовой борьбой эпохи”.
Социальный смысл опричнины был в ликвидации боярства как класса и растворении его в массе мелких земельных феодалов. Иван трудился над воплощением в жизнь этой цели с “величайшей последовательностью и несокрушимым упорством” и полностью в нем преуспел.
Такова была единственно верная и единственно возможная интерпретация политики Ивана. Однако автор воздержалась от вынесения суждения о нем самом. Дилемма оказалась слишком сложной для пролетарских историков. С одной стороны, они, конечно, сочувствовали политике уничтожения аристократии, но с другой — слова похвалы в адрес создателя крепостного права и эксплуататора трудящегося класса застревали у них в горле. И в любом случае, как может оказаться хорошим наследственный монарх и убежденный самодержец? Этот вопрос, казавшийся ортодоксальным марксистским историкам не более чем риторическим, получил неожиданный для них ответ во второй половине 30-х гг.
IК 1935 г. даже сторонним наблюдателям стало ясно, что управление СССР сконцентрировалось в руках единоличного правителя, достигшего непредставимой доселе власти над своими подданными. К 1936 г. Сталин чувствовал себя настолько уверенно, что приступил к планомерному пересмотру идеологической парадигмы. В частности, он начал повсеместно продвигать идею необходимости создания сильного государства под властью одного вождя, вместо постепенно отмирающего государства, управляемого партией, о котором учил марксизм-ленинизм. Когда началась война, Сталин открыл для себя, что люди не слишком хотели сражаться и умирать за “пролетарский интернационализм”. Однако когда народу стало ясно, что Гитлер не собирается давать им свободу и что жизнь под немцами ничуть не лучше, чем советская неволя, они начали сражаться за Родину, за Россию. Оказалось, что патриотизм — далеко не анахронистическое понятие, как изначально пытались представить коммунистические идеологи. Но и ненаправляемый, бесконтрольный и “безыдейный” патриотизм виделся нежелательным, а то и опасным явлением. Поэтому Сталин решил разыграть патриотическую карту и, всячески обкорнав ее по меркам большевистской идеологии, выдвинуть на место новой гражданской религии в качестве альтернативы как христианству, с одной стороны, так и пролетарскому интернационализму первых двадцати лет советской власти — с другой. Знаменитый клич “3а Родину, за Сталина!”, с которым воины шли насмерть, принадлежит той самой новосозданной националистической и псевдорелигиозной парадигме.
Новая идеология нуждалась в исторической укорененности. Срочно создавались и тиражировались повествования о русских военачальниках и полководцах прошлого, которые сражались с немцами или с кем-либо, отдаленно похожим на немцев. Припоминались и превозносились победы Александра Невского, Петра I (правда, он сражался со шведами, но зачем вдаваться в детали…), Александра Суворова. Дмитрий Донской, Минин с Пожарским и Михаил Кутузов, сражавшиеся с иностранными агрессорами, также после 20 лет забвения, были объявлены национальными героями и славными сынами отечества.
Разумеется, при всех этих обстоятельствах Иван Грозный никак не мог остаться забытым. Правда, он не отразил иноземную агрессию и не одержал воинской победы над немцами, но, во всяком случае, он сражался с ними, как бы заранее указывая, кто был злейшим врагом России. Более того, он был создателем централизованного русского государства, борцом против беспорядка и анархии, созданной злонамеренными аристократами — боярами. Он начал вводить революционные реформы с целью создания нового порядка. А ведь даже самодержавный царь может играть положительную роль, если монархия является прогрессивным строем на данном отрезке истории. И, следовательно, все, что противится прогрессу, — реакционно, а значит, и любые меры защиты самодержавия на тот момент оправданы и не могут быть названы чрезмерно жестокими. Если Иван прибегал к репрессиям, значит, на то были серьезные причины: реакционные бояре, наверняка, строили козни и плели заговоры против него. И уж, конечно, они вынашивали предательские планы и устанавливали контакты с иностранными врагами отечества, точно так же, как это делали враги Сталина. Кем были враги Грозного? Бояре, аристократы, землевладельцы, крепостники — иными словами, враги народа. А значит, и Иван был народным царем: демократичным и справедливым, суровым и беспощадным к врагам своего отечества и добрым к своему народу… Так создавалась сталинская легенда о грозном царе. Сталин сам в своих речах и выступлениях часто высоко оценивал Ивана, таким образом, формулируя “социальный заказ” своим придворным историкам, писателям, режиссерам и художникам. Заказ был принят и пропагандистский маховик запущен.
Престарелый Роберт Виппер, вернувшийся в СССР после 20-летней латвийской эмиграции, мог наконец обрести душевный покой. Его страна вновь была могучей и вновь она жила под единоличным правлением. Предвидение историка оправдалось, и книга его пришлась ко двору. После лишь незначительных изменений она была готова к новым изданиям — 1942 и 1944 гг.
Новой в этих изданиях была установка на тот извращенный, искусственно оторванный от православных корней и препарированный в сталинском духе “русский патриотизм”, что явился на смену огульному оплевыванию русского национального прошлого. Теперь выяснилось, что устроение русского государства в XVI в. было самым прогрессивным в мире. Русская дипломатия, разумеется, также была самой “продвинутой”. Светская интеллектуальная жизнь Московской Руси XVI в. была куда более мощной, чем все философские школы европейского Ренессанса и Реформации вместе взятые. Стоглавый Собор во всех отношениях был значительно сильнее Тридентского. Образование в Московии было несравненно лучше европейского, а уровень образованности всего общества был намного выше и т. д. Думается, можно не продолжать.
Но что насчет настоящих марксистских историков? Что они писали на эту тему?
Рассмотрим книгу С. В. Бахрушина “Иван Грозный”. Несомненно, Бахрушин куда более сдержан, чем Виппер, в своих похвалах герою своего исследования. Он даже готов допустить, что первый русский царь допустил некоторые ошибки. Но в главном Иван был, да и не мог не быть, стопроцентно прав. Грозному приходилось действовать в чрезвычайно сложных обстоятельствах: он в одиночку боролся против целого сонма реакционных сил, тормозивших прогрессивный процесс централизации Русского государства. Великий патриот, Иван положил всю свою жизнь без остатка ради спасения государства. Кто может осудить его, если в ходе этой борьбы не на живот, а на смерть он иногда наносил ответный удар сильнее, чем было необходимым? Совместно с Избранной Радой он предпринял попытку мирного перехода власти от бояр к дворянам. Попытка не удалась, и он, находясь под давлением чрезвычайно сложной внешнеполитической ситуации, в окружении врагов и предателей, не имел другого выбора.