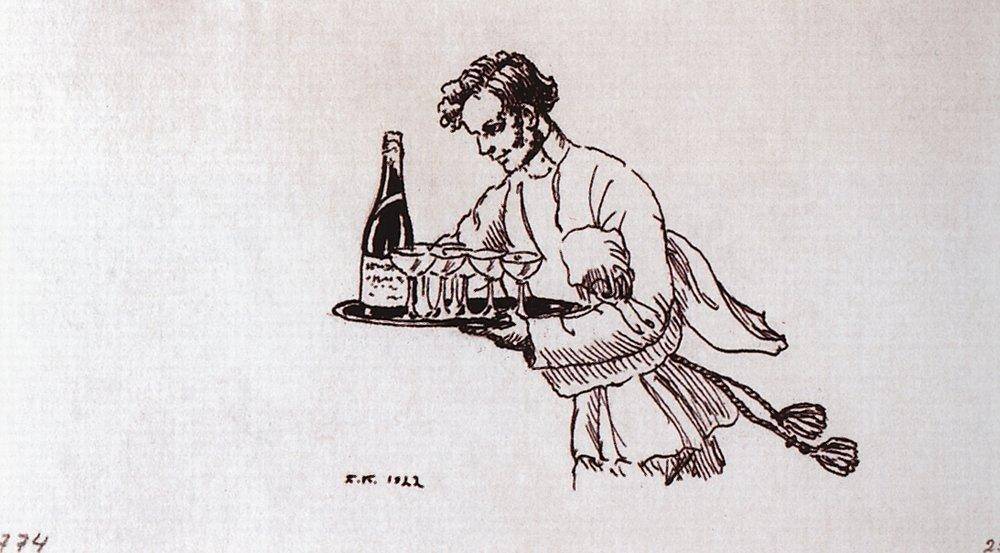У нас дома говорили: сегодня папин день (морозный), или — папина осень, папин закат. Папина модель — полная русская женщина с милым, открытым лицом. Однажды мама нашла ему модель для картины «Купчиха за чаем» (находится в Русском музее). Эта «модель» жила двумя этажами выше нас — Галя Адеркас; она позировала охотно и очень гордилась этим.
Помню, зимой сидим мы как-то вечером в мастерской, топится «буржуйка», на ней большой эмалированный чайник — ждем, когда закипит в нем вода. Вдруг — стук в парадную дверь. Я подхожу, спрашиваю: «Кто там?» — молчание. «Кто там? — ответа нет. Открывать тогда боялись — время суровое, захаживали и грабители. Я вернулась в комнату. Стук повторился. Дядя Михаил Михайлович рассвирепел, вскочил и сам бросился к двери. «Кто там?» — молчание, но слышно, как кто-то спускается с лестницы. Дяди открыл дверь и крикнул в темноту что-то грозное. А через некоторое время зашел к нам, уже обретя дар речи, К. С. Петров-Водкин и сказал дяде: «Что же это вы меня так обругали? Я пришел по-хорошему, с Лаской! (рыженькая собачка). Оказалось, что Кузьма Сергеевич наложил на себя «обет молчания» на определенный срок, почему — никто так и не узнал. Ну, и трунил же над ним папа: «Вот они, твои вечные «идеи», могли бы не только обругать, а еще и побить, — ведь ты молчал, а на лестнице было темно. Чудак ты, Кузьма!..» Натюрморт «Сторублевка и яблоко» написан папой как пародия на известные «Пять яблок» Петрова-Водкина.
…Голод все продолжается. Мама у «мешочников» меняет вещи на конину, мороженую картошку, овес… Вскоре папу посетил Горький и очень помог нам. Папа стал получать пайки из Дома ученых.
Когда у нас был А. М. Горький, он долго говорил с папой о его картинах, о том, что «сказал» ими в искусстве Кустодиев, чем ценны они для народа, для истории. Когда Алексей Максимович ушел, папа, довольный, радостный, весь словно светящийся изнутри, заметил: «Я и сам не знал, что я такой хороший, большой художник, как сказал мне Горький!..» Он был вообще необычайно скромен. Часто, когда товарищи — Добужинский, Петров-Водкин, Нотгафт или кто-нибудь другой — шумно восхищались его новой картиной, восторженно хвалили ее, он, застенчиво улыбаясь, положив свои красивые руки на колени, говорил: «Да, кажется, я написал недурную картину».
В 1920 году он писал мой портрет — в профиль, в ярко-синем платье, с яблоками на блюде. Смеялся: «Есть портрет Лавинии, дочери Тициана, с яблоками, а теперь — Путя Борисовна, дочь Кустодиева, с яблоками!» (Путя — его определение для полной, дебелой женщины.)
В 1921—1922 годах почти ежедневно бывал у нас В. Д. Замирайло. Странный и чудаковатый это был человек и, должно быть, бесконечно несчастный и одинокий. В каком-то немыслимом плаще, в пиджаке, подвязанном веревочкой. Если соглашался, после долгих упрашиваний, сесть к столу, то непременно вынимал из кармана свой кусок хлеба и ни за что не хотел съесть чего-нибудь нашего, на что мама, всегда очень гостеприимная, вначале обижалась. Он рассказывал смешные истории о своем давнем житье на Украине, показывал даже забавные фокусы.
Папа с удовольствием его рисовал и лепил. У Замирайло — характерное лицо с большим лбом, длинные негустые волосы. А какой это был интересный график! Широкая публика плохо знала его работы: он не любил выставлять и продавать свои произведения. Только у немногих коллекционеров они были.
Когда начали открывать клубы и дома культуры, папа не раз говорил: «Да, да, нужно больше клубов, хороших, красивых, нарядных, чтобы народ там отдыхал; больше надо народных веселых праздников, — народ должен видеть радостное и красивое!» И еще: «Всякий художник должен отдавать все свои произведения в музеи, чтобы народ их видел и знал, а не прятать у себя дома. Художники должны писать для всех, а не для некоторых» (это — в адрес Замирайло). Умер Замирайло ослепшим, одиноким.
Летом 1922 года папа и я жили в санатории Сестрорецкого курорта. Он работал там над эскизами декораций к пьесе А. Толстого «Посадник» для б. Александрийского театра, в постановке Ю. М. Юрьева.
Как-то сидим с ним в парке, около моря; он пишет этюд. Подошли какие-то две девицы. Некрасивые, тощие. Стали они критиковать: «Не так пишете, по старинке. Вы видите только вперед, а теперь это никому не нужно, отжило». Стали учить, как надо писать, чтобы видеть и справа и слева и даже через себя, назад. Обе оказались ученицами модного тогда К. Малевича — «неосупрематиста», как его тогда называли. Показали и свои «произведения» — мазки одной краской в разные стороны. Папа выслушал их, а потом, как всегда, добродушно иронизируя, сказал: «Спасибо за урок, милые барышни, но мне вас жаль! Сколько прекрасного вы не видите в жизни. Уж очень много смотрите направо, налево, вбок и назад. А впереди, главного не видите!»
Бывали мы и на пляже; разглядывая там «нэпманш», он потешался над их уродливыми телесами, над бесстыдством, с которым они обнажались, а потом, тоже при всех, одевались, демонстрируя все детали своего туалета. Не нравилось папе там: «Ну, что тут за природа? — говорил он. — Сосны торчат, как карандаши, и из-за каждой сосны — нос! Ни одной нашей березки. До чего хочется в нашу, кинешемскую рощу! Эх, „Терем», „Терем»!»
Но ехать в «Терем» было уже невозможно — для преодоления трудной дороги на поезде, пароходе и лошадях у него не было сил. И он подарил наш «Терем» местному исполкому под школьное здание. (В Русском музее хранится трогательное письмо Б. М. Кустодиеву от школьников, где они благодарят за этот подарок.) Дом разобрали и перенесли неподалеку — в деревню Починок-Пожарище, приспособив под школу. Впоследствии дом сгорел.
Осенью 1923 года, после отдыха в Крыму, папа поехал в Москву показаться немецкому профессору Фёрстеру, ученику Оппенгейма. Фёрстер находился в Москве, так как лечил В. И. Ленина. Профессор заинтересовался сложной болезнью, о которой читал в трудах Оппенгейма, и сделал папе третью спинномозговую операцию в клинике В. В. Крамера. Наркоз дали местный, общего не выдержало бы сердце. Четыре с половиной часа нечеловеческих страданий: наркоз действовал только в верхних покровах тела. Какую надо было иметь силу воли, чтобы перенести эту муку, силу воли, определявшуюся жаждой жизни и творчества: работать, только работать! Врачи говорили, что каждую минуту может быть шок и тогда — конец. Вырезали опухоль (доброкачественную) величиной с грецкий орех.
И. Б. Кустодиева. «Дорогие воспоминания»